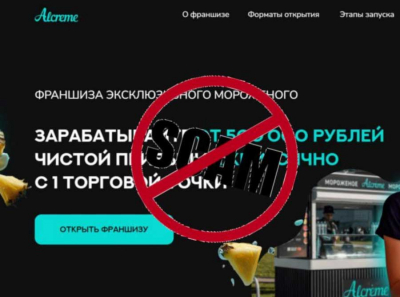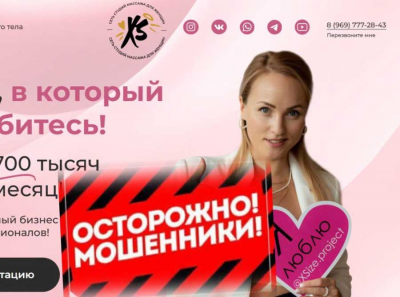В интернете гуляет одна цитата — возможно, вы её видели. Примерно такая: «В Евангелиях вы редко видите Иисуса расстроенным из-за “грешников”. Скорее, Он расстраивается из-за тех, кто не считает себя грешником».
Это фраза, заставляющая задуматься. В ней есть нечто вроде «подожди-ка…», и она прорезает массу религиозного шума с пугающей ясностью.
И в этом суть.
Если вы хотите читать больше интересных историй, подпишитесь на наш телеграм канал: https://t.me/deep_cosmos
Потому что вот в чём дело: когда вы действительно садитесь читать Евангелия — не выдёргивая цитаты, не подгоняя их под своё мнение, а на самом деле слушая, — вы замечаете определённый шаблон.
Кого Иисус пускал за Свой стол?
Люди, которых Иисус, кажется, с радостью принимал, — это как раз те, кого религиозные системы обычно держат на расстоянии. А кто получал строгий упрёк? Обычно это были самые набожные, самые «верующие в Библию», самые теологически подкованные люди в комнате.
Это должно бы встревожить нас. Но чаще всего не встревоживает — потому что мы слишком хорошо научились предполагать, что мы уже по ту сторону стола, где сидит Иисус.
Скажу прямо: Иисуса не раздражали люди, которые боролись, были сломлены или даже морально падши. Его раздражали — порой до ярости — те, кто считал, что с ними всё в порядке.
Религиозные против кающихся
Если вы посмотрите на такие истории, как притча о фарисее и мытаре в Лк. 18, послание становится очевидным. Фарисей перечисляет свои духовные заслуги, благодаря Бога за то, что он «не как прочие люди». А мытарь даже не поднимает глаз и просто говорит: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику».
Иисус спрашивает: «Кто из них пошёл домой оправданным?»
Это не исключение. Это закономерность.
Евангелия всеми силами подчёркивают это: Иисус проявлял сострадание к грешникам. А вот для самоправедных у Него были жёсткие слова.
И если вы сейчас думаете: «Да, Иисус ведь предупреждал тех — осуждающих из той церкви, или тех политических фанатиков, которых я не выношу», — я бы предложил вам остановиться. Это чувство — уже часть проблемы.
Суть в том, что самоправедность — коварна. Она всегда кажется оправданной. Именно поэтому Иисус так яростно против неё выступал.
Почему это всё ещё важно
Легко подумать, что это была проблема только первого века. Древние религиозные элиты. Устаревшие коды чистоты.
Но те же шаблоны прекрасно живут и в современной христианской культуре.
У нас до сих пор есть системы, которые явно или незаметно учат делить мир на «нас» и «их». Мы до сих пор вознаграждаем уверенность вместо смирения, уверенность вместо честности, поведение вместо настоящей трансформации. И нам до сих пор некомфортно, когда благодать вдруг направляется к людям, которые, как нам кажется, её не заслуживают.
И вот в этом — неудобная гениальность Евангелий.
Они не дают нам оправданий. Они снова и снова возвращают нас к вопросу: Считаешь ли ты, что тебе не нужна благодать?
Потому что если да — если ты выстроил свою религиозную идентичность так, чтобы оказаться «вне» нужды в милости, — тогда, по словам Иисуса, ты в духовной опасности. Не потому, что ты слишком грешен, а потому что убедил себя, что не грешен вовсе.
Приглашение
Вот что мне особенно нравится в подходе Иисуса: Он не стыдил людей до покаяния — которое, кстати, вовсе не означает ползание на коленях у алтаря. Покаяние — это изменение мышления и направления.
Он никого не принуждал. Он создавал пространство.
Люди, которые знали, что им нужна помощь, стекались к Иисусу. Люди, которые думали, что у них всё под контролем, — замышляли Его смерть.
И это должно нас отрезвить.
Какую веру мы практикуем? Это вера, которая проводит черту — или та, что стирает её? Она укоренена в смирении — или в правоте? Мы больше осознаём собственную нужду в благодати — или больше сосредоточены на грехах других?
Евангелия бросают нам вызов — не для того, чтобы мы определили, кто «грешник», а чтобы мы узнали самоправедность в самих себе.
Иисуса никогда не пугали запутанные, «грязные» люди. Он видел их. Любил их. Приглашал их.
А вот те, кто стоял в стороне, скрестив руки и уверенный, что им не нужен врач?
Вот с кем Он проводил черту.