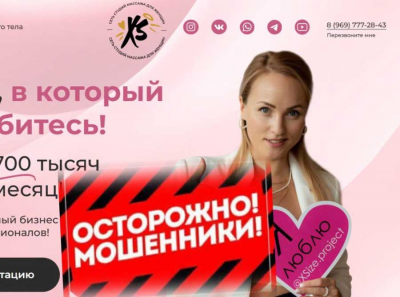Королевская монополия на камень и землю
Представление о средневековом лорде как о полновластном хозяине своей земли и неприступной цитадели, где он царь и бог, — это скорее красивый миф, рожденный рыцарскими романами, чем историческая реальность. На самом деле, каменные стены его замка зачастую принадлежали ему не более, чем мундир принадлежит солдату. Истинным собственником, по крайней мере в теории, а часто и на практике, был монарх. Эта система достигла своего апогея в Англии после 1066 года, когда Вильгельм, герцог Нормандии, пересек Ла-Манш, разгромил англосаксов при Гастингсе и стал Вильгельмом I Завоевателем. Он не просто захватил корону; он совершил юридическую революцию. Одним росчерком пера, подкрепленным мечами его баронов, вся земля Англии была объявлена собственностью короны. Абсолютно вся. От плодородных полей Кента до диких вересковых пустошей Нортумберленда. Бароны, которые помогли ему в завоевании, не получили землю в полную собственность. Они получили ее в держание (tenure) от короля в обмен на клятву верности и военную службу. Замок, построенный на этой земле, автоматически становился частью этого держания и, следовательно, тоже принадлежал королю.
Эта нормандская инновация была шоком для англосаксонской элиты, привыкшей к совершенно иным порядкам. До 1066 года в Англии существовала система бокленда (bookland) — земель, пожалованных королем по специальной грамоте, которые считались практически полной, отчуждаемой собственностью, и фолкленда (folkland) — общинных земель, регулируемых обычным правом. Англосаксонский тэн мог продать, завещать или подарить свою землю, обладая значительно большей свободой, чем его нормандский преемник. Вильгельм же безжалостно смел эту систему, заменив ее единым принципом: «Nulle terre sans seigneur» — «Нет земли без господина», где верховным господином был он сам. Старая англосаксонская аристократия была практически полностью уничтожена или лишена владений в пользу соратников Вильгельма — нормандцев, бретонцев, фламандцев. Но и эти новые хозяева жизни получили землю не в дар, а в качестве служебного надела, который мог быть отобран в любой момент.
Чтобы никто не забыл, кто здесь хозяин, Вильгельм инициировал грандиозный проект — «Книгу Страшного суда» (Domesday Book), завершенную в 1086 году. Это была не просто перепись населения. Специальные королевские уполномоченные разъехались по всей стране, скрупулезно фиксируя каждый клочок земли, каждую мельницу, каждый плуг, каждую корову и, разумеется, каждого держателя земли, указывая, от кого он ее держит. А держали все, в конечном счете, от короля. Процесс был беспрецедентным по своему масштабу и дотошности. Королевские легаты устраивали допросы под присягой шерифам, баронам и даже «собраниям сотни», куда входили священники, старосты и по шесть вилланов от каждой деревни. Англосаксонская хроника с горечью отмечала: «...он так тщательно приказал ее обследовать, что не осталось ни одной гайды земли, ни даже — стыдно сказать, но ему не постыдно было делать — ни одного быка, ни коровы, ни свиньи, которые не были бы занесены в его опись».
Эта тотальная инвентаризация превратила Англию в гигантское феодальное поместье, где король был единственным землевладельцем, а все остальные — от могущественного графа до мелкого рыцаря — лишь арендаторами с разной степенью привилегий и обязанностей. Замок в такой системе переставал быть символом независимости, а становился знаком службы, материальным воплощением вассального долга. «Книга Страшного суда» стала не просто налоговым кадастром, но и юридическим фундаментом новой Англии, документом, который на века закрепил принцип верховенства короны над всей землей. Любой спор о владении отныне решался простым обращением к этой великой книге, и слово, записанное в ней, было окончательным. Власть перестала опираться лишь на грубую силу меча, она обрела силу бюрократического учета и писаного закона, где каждая строка утверждала права короля.
Лицензия на бойницы: бюрократия на страже трона
Владея землей на правах «арендатора», феодал не мог просто так взять и построить на ней крепость. Возведение замка, особенно каменного, было актом не столько хозяйственным, сколько политическим. Появление новой цитадели меняло военный баланс в регионе, и ни один здравомыслящий монарх не хотел, чтобы его вассалы безконтрольно плодили укрепленные базы, которые в любой момент могли стать очагами мятежа. Поэтому возникла уникальная правовая норма — «лицензия на сооружение бойниц» (licence to crenellate). Эта бумага, выдаваемая королевской канцелярией, официально разрешала феодалу укрепить свое жилище, добавив к нему ключевые элементы фортификации: зубчатые стены, башни и, собственно, бойницы. Без этого пергамента с королевской печатью любое строительство считалось незаконным (adulterine castle) и подлежало сносу, а его владелец рисковал навлечь на себя гнев суверена.
Практика лицензирования особенно распространилась в Англии в XII-XIV веках. Процесс получения заветного документа мог растянуться на годы. Нужно было подать прошение, доказать свою лояльность, а зачастую и подкрепить ее солидной суммой. Для короля это был еще один мощный рычаг давления. Лояльные бароны получали лицензии без особых проблем, укрепляя королевскую власть на местах. Неугодным же или слишком амбициозным могли отказывать под любым предлогом, оставляя их поместья уязвимыми. История знает немало примеров, когда замки, построенные без разрешения в периоды смут и гражданских войн, таких как анархия во времена правления короля Стефана (1135–1154), впоследствии безжалостно сносились его преемником, Генрихом II Плантагенетом. Он прекрасно понимал, что порядок в королевстве начинается с контроля над камнем и раствором. За время своего правления Генрих II, по свидетельствам хронистов, снес более тысячи «самовольных» замков, восстанавливая пошатнувшуюся монополию короны на насилие.
Показательна история замка Бодиам в Восточном Сассексе, одного из самых живописных в Англии. Его владелец, сэр Эдвард Дэлингригг, ветеран Столетней войны, получил лицензию на укрепление своей усадьбы от Ричарда II в 1385 году. Официальной причиной была названа защита местности от набегов французов. Однако, получив разрешение, сэр Эдвард построил не просто укрепленный дом, а современнейшую по тем временам концентрическую крепость с рвом, мощными башнями и продуманной системой обороны. Для короля выдача такой лицензии была способом наградить верного слугу и одновременно использовать его военный опыт для укрепления обороны побережья, не тратя денег из казны. Для Дэлингригга же это был способ продемонстрировать свой возросший статус и богатство, добытое на полях сражений во Франции.
Сама формулировка лицензии была весьма показательна. Она не даровала право собственности, а лишь позволяла «кренеллировать» (т.е. снабдить зубцами) уже существующее жилище или усадьбу. Это тонко подчеркивало, что феодал лишь улучшает королевскую собственность, доверенную ему для управления. Таким образом, даже сам акт строительства замка превращался в демонстрацию покорности. Вместо того чтобы быть символом независимости, возведение стен становилось публичным признанием верховенства королевской власти, задокументированным и скрепленным печатью. К XV веку получение лицензии стало скорее вопросом престижа, чем военной необходимости. Бароны стремились получить заветный пергамент, чтобы подчеркнуть свой высокий статус, даже если не собирались строить серьезных укреплений. Замок все больше превращался из военной машины в роскошную резиденцию, а зубчатые стены — в декоративный элемент, символ принадлежности к высшей аристократии, допущенной к этому королем.
Аренда с видом на вечность: замок как временное владение
Даже получив лицензию и отстроив замок, феодал не мог расслабиться и считать его своей вечной и неотчуждаемой собственностью. Его владение было условным и временным, крепко-накрепко связанным с его жизнью и службой короне. Когда лорд, державший замок, умирал, его собственность не переходила автоматически к наследникам, как это происходит сегодня. Она возвращалась к своему верховному собственнику — королю. Этот процесс назывался «эшитом» (escheat). После смерти вассала специальный королевский чиновник, эшитор, брал под контроль все его владения, включая замок. Дальнейшая судьба наследства решалась при дворе. Если у покойного был совершеннолетний сын, доказавший свою лояльность, он мог унаследовать отцовские земли и замок.
Но это не было бесплатно. За вступление в наследство он должен был заплатить короне специальный налог — «рельеф» (relief). Сумма рельефа не всегда была фиксированной и часто зависела от расположения монарха, что давало последнему еще один инструмент для поощрения и наказания. Великая хартия вольностей 1215 года пыталась ограничить королевский произвол, установив фиксированную ставку: 100 фунтов для графа или барона и 100 шиллингов для рыцаря. Однако эти нормы часто нарушались, и короли, особенно нуждавшиеся в деньгах, такие как Иоанн Безземельный, взвинчивали суммы до небес. Например, Николас де Стутвиль в 1205 году был вынужден заплатить немыслимую сумму в 10 000 марок за право унаследовать отцовские земли. Такие долги могли разорить семью и на поколения вперед поставить ее в полную зависимость от короны.
Если же наследник был несовершеннолетним, ситуация становилась еще интереснее. Король получал право опеки (wardship) над ним и его землями. Это означало, что все доходы от поместий, пока наследник не достигнет совершеннолетия, шли прямиком в королевскую казну. Король также получал право устроить брак своего подопечного, выгодно выдав его замуж или женив на ком-то из своих протеже. Часто право опеки продавалось другому барону, который выжимал из временных владений все соки. Для наследника это были годы унизительного положения и разорения его земель. Источники полны жалоб на опекунов, которые вырубали леса, распродавали скот и доводили поместья до упадка, стремясь извлечь максимальную прибыль до того, как законный владелец вступит в свои права.
Если же у вассала не оставалось прямых наследников, его земли и замок окончательно возвращались короне, и монарх мог пожаловать их новому, более заслуживающему доверия слуге. Эта система делала положение любого феодала, даже самого могущественного, крайне шатким. Его благополучие и будущее его рода напрямую зависели от королевской милости. Замок, который он строил и укреплял всю жизнь, мог в одночасье уйти из его семьи из-за смерти без наследника, политической опалы или непомерного рельефа, который его сын был не в состоянии заплатить. Положение женщин в этой системе было особенно уязвимым. Вдова имела право на «вдовью долю» (dower), обычно треть владений мужа, но для повторного брака ей требовалось разрешение короля, которое тоже стоило денег. В противном случае она рисковала потерять и эту долю.
Кастелян на хозяйстве: когда крепость служит короне
Что происходило с замками, которые принадлежали короне напрямую? А таких было множество. Это были и старые, стратегически важные крепости, и замки, вернувшиеся королю по праву эшита или конфискованные у мятежников. Монарх не мог лично управлять каждым из них. Для этого существовал специальный институт назначенных управляющих — кастелянов, или констеблей. Кастелян был не владельцем, а комендантом, королевским чиновником, ответственным за поддержание замка в боевой готовности, управление гарнизоном и прилегающими землями. Он получал жалование из казны и нес личную ответственность перед королем за сохранность вверенного ему имущества. Должность кастеляна была очень престижной и выгодной, ее часто доверяли проверенным рыцарям или мелким баронам, доказавшим свою преданность.
Жизнь такого замка кардинально отличалась от жизни в «частной» феодальной резиденции. Это был не семейный очаг, а в первую очередь военный и административный центр. В его стенах постоянно находился королевский гарнизон, хранились запасы оружия и продовольствия на случай войны или осады. Замок служил местом сбора налогов, судом, тюрьмой и опорным пунктом королевской власти в регионе. Знаменитый Лондонский Тауэр, например, никогда не был частной резиденцией. С момента своей постройки при Вильгельме Завоевателе он всегда был королевской крепостью, управляемой констеблем. Он был и дворцом, и арсеналом, и тюрьмой для высокопоставленных узников, и даже зоопарком. Другой пример — Дуврский замок, известный как «Ключ к Англии». Его констебль был одной из важнейших фигур в королевстве, контролируя самое короткое морское сообщение с континентом.
Повседневные обязанности кастеляна были обширны и многообразны. Он должен был следить за состоянием стен и башен, организовывать ремонт, закупать припасы — от стрел и арбалетных болтов до солонины и зерна. Он командовал гарнизоном, проводил учения, выставлял караулы и отвечал за оборону в случае нападения. Помимо военных функций, он часто выполнял и судебные: председательствовал в местном суде, вершил правосудие от имени короля, следил за исполнением приговоров. В его ведении находилась и замковая тюрьма, куда сажали как простых преступников, так и знатных пленников. За свою службу кастелян получал не только жалованье, но и право пользоваться частью доходов с приписанных к замку земель, что открывало широкие возможности для личного обогащения, как законного, так и не очень.
Сеть таких королевских замков, управляемых верными кастелянами, покрывала всю страну, служа становым хребтом монархии. Они контролировали ключевые дороги, переправы и города, позволяя королю быстро мобилизовать силы и подавить любое недовольство. Если местный барон проявлял признаки непокорности, ближайший королевский кастелян с гарнизоном был первым, кто напоминал ему о его вассальном долге. Короли внимательно подходили к назначению на эти посты, стараясь не допускать, чтобы должность становилась наследственной и чтобы один человек не концентрировал в своих руках слишком много замков. Однако в периоды ослабления центральной власти кастеляны могли превращаться в практически независимых правителей, используя вверенные им крепости для проведения собственной политики, что создавало серьезную угрозу для трона.
Меч, закон и выселение: расплата за неверность
Самым действенным и пугающим инструментом, который обеспечивал лояльность аристократии, была угроза конфискации. Если феодал поднимал мятеж, участвовал в заговоре или иным образом нарушал клятву верности, его ждала суровая кара. По обвинению в государственной измене (treason) его могли не только казнить, но и лишить всех титулов, земель и, разумеется, замка. Процедура называлась «актом об опале и конфискации» (Bill of Attainder). После осуждения все имущество мятежника переходило в собственность короны. Это была не просто потеря богатства, это было полное социальное и политическое уничтожение. Его род вычеркивался из рядов знати, а его дети лишались всякого права на наследство. Его замок, символ его могущества, становился трофеем короля, который мог либо оставить его себе, либо, что случалось чаще, передать его другому, более преданному вассалу.
Это был наглядный урок для всех остальных: верность вознаграждается, предательство карается полным крахом. История полна примеров такого возмездия. Во время Войн Роз в Англии XV века, когда Йорки и Ланкастеры боролись за трон, конфискация замков и земель стала обыденным явлением. После каждой битвы победитель объявлял сторонников проигравшей стороны предателями и отбирал их владения, раздавая своим соратникам. Замки Уорик, Алник, Бамбург многократно переходили из рук в руки. Этот процесс не только вознаграждал лояльных, но и пополнял казну, так как конфискованные поместья приносили огромный доход. Так, после победы при Таутоне в 1461 году Эдуард IV Йоркский конфисковал земли более чем у 140 сторонников Ланкастеров.
Симон де Монфор, могущественный граф, возглавивший восстание баронов против Генриха III в XIII веке, после своего поражения и гибели в битве при Ившеме был посмертно осужден как предатель. Его огромное владения, включая знаменитый замок Кенилворт, были конфискованы и переданы сыну короля. Замок Кенилворт выдержал полугодовую осаду королевских войск даже после гибели своего хозяина, что демонстрирует, какой мощной опорой могла быть крепость, но и это не спасло семью де Монфоров от полного разорения. Подобная участь постигла и многих других. Томас, граф Ланкастер, двоюродный брат короля Эдуарда II и богатейший магнат своего времени, был казнен за мятеж в 1322 году, а его несметные богатства и десятки замков, включая могучий Потефракт, отошли короне.
Эта постоянная угроза выселения висела дамокловым мечом над головой каждого аристократа. Какой бы мощной ни была его крепость, какие бы высокие стены он ни возводил, он знал, что одно неосторожное слово или неверный политический шаг могут стоить ему и его семье всего. Замок, таким образом, был не столько защитой от внешних врагов, сколько залогом верности собственному суверену. Сама архитектура власти была выстроена так, что каменные стены служили не столько для защиты лорда от короля, сколько для защиты интересов короля от его врагов. И очередь из желающих занять место провинившегося лорда всегда была длинной, терпеливо ожидая за крепостной стеной, когда удача или королевский гнев предоставят им свой шанс.