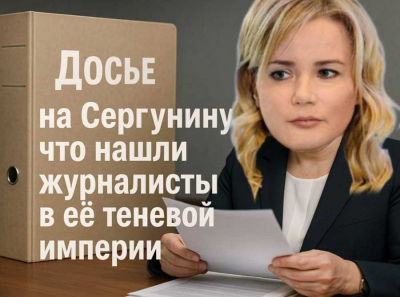Бывший пресс-секретарь министра обороны России, военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор БАРАНЕЦ раскрывает малоизвестные нюансы строительства российско-белорусских отношений в 90-е годы
К нашим шуткам примешивалась изрядная доля легко объяснимой мужской грусти об офицерской молодости под боевыми стягами «несокрушимой и легендарной». Вместе с ним в белорусской армии остались служить сотни наших однополчан.
В одном из генштабовских документов говорилось: «В рамках СНГ в наиболее продвинутом состоянии находятся вопросы военной интеграции России и Беларуси». И то была сущая правда. Москва и Минск нашли общий язык при подписании соглашений о российских военных объектах в этой республике, о координации разведывательной деятельности и многих других.
Во время встречи Ельцина и Лукашенко в Кремле в 1995 году российский Президент поставил даже вопрос о разработке общих воинских уставов, что явно указывало на готовность российской стороны сделать беспрецедентно широкий шаг к дальнейшему углублению военного сотрудничества.
С другой стороны, и Минск демонстрировал готовность к этому, создавал для Москвы режим наибольшего благоприятствования, когда возникала необходимость решать общие оборонные вопросы. Но, пожалуй, самое большое значение для военно-стратегических интересов России имело то, что с середины 90-х годов Беларусь проводила честную и чёткую военную политику, без спекуляций и "игры на два фронта". Такая позиция Беларуси стала играть для Москвы особенно важную роль, когда Североатлантический блок начал расширяться на восток.
У нас в Генштабе в условиях нависания НАТО над западными границами России хорошо понимали, что и территориальное положение Беларуси, и её военный потенциал, и оборонная политика имеют для России стратегическое значение. Понимали это и наши недруги. Я часто убеждался в этом, имея возможность знакомиться с секретными донесениями и аналитическими материалами нашей (а порой и белорусской) разведки. Создавалось впечатление, что для западных спецслужб вопросами жизни и смерти были подрыв стабильности в Беларуси, расшатывание власти Президента Лукашенко, его дискредитация и даже устранение. Было ясно: США и другие страны Запада разворачивают политику тотального сопротивления интеграционным процессам между Москвой и Минском. В том числе, разумеется, и в военной области. Решению этих задач было подчинено все. Иностранной агентуры НАТО в Беларуси насчитывалось раз в двадцать больше, чем в любой другой постсоветской республике. "Ударниками" здесь были поляки и прибалты.
Зарубежные резиденты щедро оплачивали антипрезидентские акции белорусской оппозиции. Колоссальные суммы отваливались разным фондам и СМИ, которые проповедовали откровенно антилукашенковскую идеологию, стравливали народ с Президентом. Радиостанция "Свобода" открыла специальную рубрику, под которой целенаправленно появлялись материалы откровенно антипрезидентского толка.
В эту работу систематически вносили свою лепту и некоторые российские журналисты. Я испытывал чувство стыда из-за того, что эти люди, граждане России, с таким упоением поливали теледерьмом нашего самого надежного союзника.
На этом фоне нередко подвергались нападкам со стороны белорусской оппозиции и некоторые важные шаги Минска и Москвы, направленные на углубление военной интеграции.
Для России это соглашение было крайне выгодно: т.е. российские войска и объекты находятся в Беларуси на тех же условиях, что и белорусские. Они пользуются имуществом объектов и земельными участками, на которых расположены, без взимания налогов (за исключением налогов, связанных с хозяйственной деятельностью). К тому же ввоз на белорусскую территорию материальных средств, необходимых для функционирования этих объектов, осуществляется на беспошлинной основе. Естественно, наше военное присутствие в Беларуси предусматривает и решение оборонных задач в общих интересах.
***
Мне часто приходилось бывать в самых высоких натовских штабах и слышать там откровенные признания генералов, что они придают "должное" значение и российско-белорусскому военному сотрудничеству, и геостратегическому положению Беларуси в условиях расширения Североатлантического альянса на восток. Хорошо понимали важность этого фактора и в российском Генштабе. К сожалению, Кремль, МИД и правительство России времён Ельцина нередко упускали возможность извлечь военно-политические выгоды из всего этого. Поздней осенью 1996 года в российском Генеральном штабе многие специалисты говорили о том, что Кремль теряет великолепную возможность использовать к своей выгоде "белорусский ракетный фактор".
В условиях объявленного руководством НАТО расширения на восток в головах наших генштабовских стратегов не однажды мелькала мысль о том, что в качестве контрмеры Москва и Минск могли бы заявить о готовности пересмотреть своё отношение к договору, в соответствии с которым российские части Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), дислоцирующиеся в Беларуси, должны были выводиться на территорию России. Что конкретно имелось в виду и почему ситуация требовала такой постановки вопроса?
С самого начала реализации натовского плана о расширении альянса на восток Кремль, правительство, МИД России только и делали, что "выражали несогласие". Но натовское руководство не обращало на это внимания. Ритуальные вздохи Москвы не возымели действия. Однако шанс переломить ситуацию был. И заключался он в том, чтобы в условиях расширения НАТО на восток и приближения его к границам России приостановить вывод оставшихся в Беларуси частей РВСН.
Кстати, Президент Беларуси Александр Лукашенко несколько раз давал понять Кремлю, что мыслит именно в таком направлении. К сожалению, он не встретил понимания его позицию поддержал лишь тогдашний министр обороны России Игорь Родионов. В том же духе высказывались и некоторые другие высшие генералы.
Но наш МИД к этой идее отнёсся почти панически: это-де приведёт к резкому обострению ситуации в Европе. Получалось, что НАТО обострять её можно, а России нет.
Российский Генштаб фирма всезнающая. У нас в Кремле и на Смоленской площади всегда было достаточно своих "агентов", которые и сообщили, что мидовские причитания об "обострении ситуации" лукавство. Кремль и МИД боялись огрызаться потому, что опасались финансовых контрмер со стороны стран НАТО. Без их поддержки российские "реформы" могли рухнуть (американцы открыто заявляли, что в случае агрессивного поведения Москвы они её в "Восьмерку" и на пушечный выстрел не подпустят).
Когда из Беларуси в Россию 27 ноября 1996 года вывозилась последняя ядерная ракета и по этому поводу были организованы проводы в Лиде, Александр Лукашенко не прибыл на это мероприятие. И его можно было понять.
В тот пасмурный день и настроение министра обороны России Игоря Родионова соответствовало погоде (я сопровождал его во время визита в Беларусь). В самолёте Родионов вызвал меня в свой салон и попросил дать ему ещё раз взглянуть текст предстоящего выступления на проводах последнего эшелона наших ракетчиков. Меня это насторожило: текст был "вылизан". Тем более что речь в нем шла о ракетах, а в таких материалах каждая буква проверяется до той степени, когда с неё, как говорили у нас в Генштабе, начинала "мука сыпаться".
Родионов несколько раз перечитал текст. Потом взял ручку и вписал несколько строк. Дополнение состояло лишь из одного предложения. Суть его сводилась к тому, что народ Беларуси должен быть всегда уверен: даже если его страна стала безъядерной, верная Договору о коллективной безопасности СНГ Россия никогда не оставит Беларусь в беде.
***
В тот день не видел я радости и на лицах пришедших на проводы белорусов. Лишь физиономии многочисленных западных военных атташе излучали торжество. Когда под марш "Прощание славянки" и гудок электровоза вагон с последней ракетой покатил на восток, белорусские военные пригласили гостей в палатки, где были щедро накрыты столы. Водка быстро развязала всем языки. Было много тостов, но я никак не мог понять, за что же мы пьём. Иностранные атташе говорили какие-то слова о новом мире, о конце холодной войны, о прозрении политиков. Звучало: "За новую Европу!", а мне слышалось: "За слабую Россию!".
Не шла в горло водка. Болтливый польский военный атташе лез целоваться к американцу и, даже будучи в сильном подпитии, смотрел на меня, как царь на блоху. Венгр в это время услужливо подкладывал в тарелку американца холодец и хрен. А когда-то на учениях армий Варшавского договора он послушно бегал по моей просьбе за коньяком...
Теперь я знаю, что самое страшное для офицера когда твою страну перестают уважать. Сила порождает уважение. Слабость пренебрежение. Слабая страна быстро теряет союзников. Они бегут к сильным. Остаются самые преданные. Как белорусы. Но мне при этом было стыдно смотреть им в глаза.
***
Ещё до отлёта Родионова в Беларусь я знал, что во время своего кратковременного визита в Москву на нерекламируемых встречах с российскими политиками, дипломатами и генералами Лукашенко призывал их с максимальной выгодой для военно-стратегических интересов обеих республик разыграть "ракетную карту" в условиях продвижения НАТО на восток. Насколько мне было известно, поначалу речь шла о переносе времени вывода частей РВСН на более поздний срок. Эта идея у нас в Генштабе многим понравилась. Но Кремль отказался поддержать идею Лукашенко.
Судя по всему, даже через два года после вывода последней ядерной ракеты с территории его республики Александр Григорьевич не оставил намерений самостоятельно использовать "ракетный фактор" в противостоянии рвущемуся на восток НАТО. Минобороны Беларуси провело инвентаризацию стартовых площадок бывших частей РВСН (к тому времени была взорвана только одна из 81 площадки ракет СС-25). Как только такой сценарий развития событий пошёл не по американскому варианту, штатовцы запаниковали.
Помощник министра обороны США Эдвард Уорнер докладывал начальству: "Несмотря на многочисленные попытки, мы не смогли добиться от руководства Беларуси доступа к этим стартовым площадкам и начать работы" (наши источники в США работали добросовестно).
В начале 1992 года по рекомендации американской стороны Станислав Шушкевич настоял на том, чтобы Москва вывела с территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Лукашенко не Шушкевич. Не допустив американских специалистов к стартовым площадкам, белорусский Президент ещё раз доказал, что намерен проводить политику, не терпящую чьего-либо диктата. И многозначительно заметил при этом: "Стартовые площадки Беларуси не помешают. А оставлять после себя потомкам выжженную, искорежённую землю мы не будем". В Москве смотрели на это по-разному: одни с паническим страхом, другие с тихим восторгом.
Продолжение здесь
БАРАНЕЦ Виктор Николаевич
А как вы считаете, могла ли Россия противостоять продвижению НАТО на восток? Пишите в комментариях