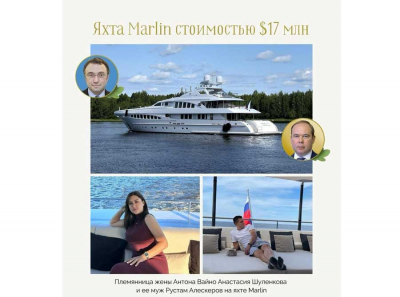Это было похоже на сюжет антиутопии: судно глухо скользит по холодному Атлантическому океану, двери кают не открываются, их круглосуточно стережёт конвой. Двадцать восемь дней пассажиры томятся взаперти, не зная, что их ждёт завтра: женщины – в каютах, мужчины – в сырых тёмных трюмах. Выйти подышать на палубу можно только в сопровождении охраны. Но среди холода, скудной пищи и подавленного молчания спасала одна мысль: впереди – Россия. Свободная, новая, настоящая. Та, в которой всё будет иначе.
Так спустя годы вспоминала то плавание легендарная анархистка Эмма Гольдман – женщина, которую американские газеты называли «самой опасной в стране», а правительство депортировало. Вместе с ней 21 декабря 1919 года из порта Нью-Йорка на старом военном судне Buford вывезли 249 человек. Анархисты, социалисты, профсоюзные активисты – всех, кого власть считала «красной угрозой». Этот корабль журналисты окрестили Советским Ковчегом: он в равной степени символизировал избавление от «вредных элементов» и путь в страну, которую считали утопией.
Америка, охваченная страхом: как родился Советский Ковчег
1919 год был для США годом паники. После Октябрьской революции в Америке началась настоящая «красная истерия»: страх перед тем, что коммунизм просочится в страну вместе с иммигрантами, которых ассоциировали с радикальными взглядами, подрывной деятельностью и бомбами. И не без оснований.
Летом 1919 года в восьми городах США прогремели взрывы. Целями стали чиновники и судьи – дело рук сторонников итальянского анархиста Луиджи Галлеани. Хотя жертв удалось избежать, атмосфера в стране накалилась до предела. Генеральный прокурор Александр Палмер, едва не ставший жертвой одной из бомб, пришёл к выводу, что революция – не миф, а угроза, буквально стоящая у порога.
Он запустил серию арестов, вошедших в историю как Рейды Палмера. Сотни людей, преимущественно европейских иммигрантов, были задержаны как потенциальные враги государства. И поскольку многие из них не имели гражданства, решение оказалось «простым» – депортировать.
Советский Ковчег и «самая опасная женщина Америки»
Корабль Buford покинул порт Нью-Йорка 21 декабря 1919 года без шума, без прощаний, в атмосфере полной секретности. Только спустя сутки родственники арестованных узнали, что их близкие были высланы из страны. Среди депортированных оказались фигуры, давно ставшие символами американского радикализма. Эмма Гольдман, блестящий оратор, неустанный борец за права женщин, трудящихся и свободу слова, – возглавляла этот «чёрный список». За плечами у неё десятки лет активности, запрещённые лекции, тюремные сроки и влияние на целое поколение анархистов. Вместе с ней на борту оказался Александр Беркман – её соратник, писатель, участник громкой попытки покушения на промышленника Генри Фрика.
Даже капитан судна не знал конечного пункта назначения: маршрут хранился в запечатанном конверте, который ему велели открыть уже в море. Мужчин разместили в сырых трюмах, женщин – в каютах под постоянным наблюдением. Выйти на палубу можно было лишь в сопровождении охраны. Никто не знал, где закончится это путешествие. Но среди стужи, конвоя и скудной пищи теплилась надежда: быть может, в Советской России наконец-то удастся построить общество, за которое они боролись.
На берегу же царило ликование. Газеты соревновались в остроумии, называли Buford «Советским Ковчегом» и «рождественским подарком Ленину». Saturday Evening Post писал: «Mayflower привёз первых строителей этой страны, Buford увозит её первых разрушителей». Однако со временем начался и отрезвляющий разговор: адвокаты и правозащитники заговорили о незаконности массовых арестов и депортаций без суда. История с Buford вскрыла болезненный вопрос: насколько легко в борьбе с идеологией переступить границы закона.
Реальность Советской России: трещины в утопии
Из-за отсутствия дипломатических связей с Советами Buford прибыл не в Россию напрямую, а в Финляндию. Уже оттуда радикалов переправили через границу. Встреча была торжественной: Советская Россия ждала этих гостей. Особенно таких фигур, как Гольдман и Беркман – и не без расчёта. Большевики хотели использовать их авторитет в анархистских кругах для укрепления своей позиции в глазах мировых левых.
Но эйфория длилась недолго. По мере знакомства с реальностью советской жизни: подавлением оппозиции, действиями ЧК, концлагерями и дефицитом базовых свобод – Беркман и Гольдман начали испытывать глубокое разочарование. Беркман писал:
А Гольдман назвала большевизм «грозным механизмом, раздавившим всё живое в революции». Последней каплей стал расстрел Кронштадтского восстания – матросов, когда-то бывших оплотом революции, которые в 1921 году потребовали свободы слова, собраний и многопартийности. Эти события окончательно убедили американских анархистов, что революция захлебнулась в крови. Они покинули Россию и больше никогда туда не возвращались.
Но не все пассажиры Советского Ковчега испытали разочарование. Один из них, Петер Бианки, бывший лидер Союза русских рабочих в США, нашёл своё место в Советской России. Он работал в Сибири над восстановлением железных дорог, затем в Петрограде, даже стал помощником комиссара на госпитальном судне. Но десятого марта 1930 года он погиб во время антисоветского восстания на Алтае. Его посмертно назвали советским мучеником: он стал символом того меньшинства, которое поверило в СССР до конца.